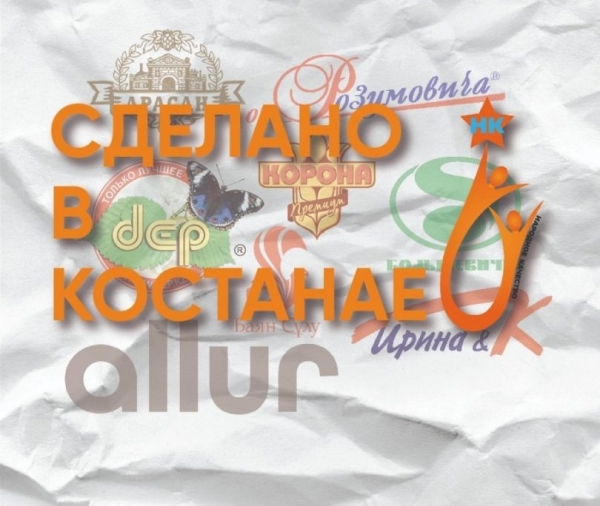Аркалык, возведенный посреди степи как символ индустриального прорыва, и Жанозен, чья жизнь десятилетиями зависит от нефтяных скважин, – это яркие примеры одной из самых острых проблем Казахстана. Города, построенные ради добычи полезных ископаемых, сталкиваются с суровой реальностью: что будет с тысячами людей, когда ресурсы закончатся? Судьба этих населенных пунктов – наглядное предупреждение о том, что экономика, построенная исключительно на богатствах недр, рискует обрушиться вместе с последней тонной добытой руды.
В XX веке пейзаж с уходящими за горизонт рядами домов, пылью от шахт и пронзающими небо трубами был нормой. Города строились вместе с заводами, обеспечиваясь школами, больницами и инфраструктурой. Но после распада Советского Союза многие из них оказались в новой реальности: рыночные правила изменились, централизованные дотации прекратились, а запасы в недрах оказались не бесконечными. Аркалык стал хрестоматийным примером этого пути. Здесь, как и в сотнях других точек постсоветского пространства, рудник не просто давал работу – он породил сам город. Но зависимость от одного ресурса сделала его уязвимым.
История Аркалыка началась в послевоенные годы, когда в 1948 году в степи обнаружили огромные залежи бокситов – основного сырья для производства алюминия. Вскоре здесь вырос поселок геологов, а в 1956 году началось строительство города. Всего через двенадцать лет освоение Торгайских месторождений объявили всесоюзной комсомольской стройкой. Градообразующим предприятием стало Торгайское бокситовое рудоуправление (ТБРУ), входившее в АО «Алюминий Казахстана». В 1960–1970-е годы управление добывало до 20% всех бокситов СССР. За 60 лет ТБРУ переработало 1,5 млрд кубометров горной массы, добыв более 80 млн тонн бокситов. Однако в 1990-е начался кризис. В 2017 году, когда запасы иссякли, было принято решение о закрытии предприятия.
«В 2019 году ТБРУ официально прекратило работу. Закрытие было связано с исчерпанием экономически рентабельных запасов, снижением рентабельности и ростом затрат», – сообщили в акимате Аркалыка. Последствия не заставили себя ждать. Закрытие рудоуправления оставило после себя не только гигантские карьеры, но и неопределенность для сотен людей. В городе выросла безработица, и возобновился отток населения. По данным Бюро национальной статистики, в 2025 году население Аркалыка составляет 26 тысяч человек и продолжает сокращаться. Для сравнения, на момент закрытия предприятия здесь проживало около 28 тысяч, из которых 17 тысяч были трудоспособными.
По данным акимата, под сокращение попали около 680 человек – это значит, что каждый двадцать пятый трудоспособный житель остался без работы, а каждая двадцать пятая семья лишилась основного источника дохода. Для моногорода, где альтернатив практически не было, это стало тяжелейшим ударом. Власти предприняли ряд мер: около 180 человек трудоустроили на другие предприятия региона, 67 направили на переобучение, около 50 получили гранты на открытие своего дела. Однако более 100 человек были вынуждены искать работу самостоятельно в других городах, в основном вахтовым методом в Карагандинской, Актюбинской и Мангистауской областях. Судьба еще примерно 200 человек осталась неуточненной.
Впрочем, на руинах старого производства зародилась новая жизнь. При поддержке ERG (Евразийская Группа), куда входило ТБРУ, был запущен проект по созданию новых предприятий. Бывший сотрудник ТБРУ Виктор Суровцев открыл ремонтное предприятие ТОО «ARQALYQREMSERVICE» и трудоустроил 87 своих бывших коллег. «Это была программа по сохранению рабочих мест. В том же году пришли инвесторы, при их поддержке строится асфальтовый завод. Акимат области и город помогли с кредитом под 1%», – говорит Суровцев. Сегодня предприятие ремонтирует дороги, производит щебень и занимается ремонтом грузовых вагонов. Остатки былого гиганта постепенно исчезли: здание ТБРУ выставлено на продажу, рельсы пущены на металлолом, а гигантские экскаваторы, некогда видневшиеся из любой точки города, разобраны.
Экологическое наследие бокситового гиганта оказалось не менее тяжелым. Местные жители единогласно признают: десятилетиями город жил под покровом красной пыли. «Раньше мы жили у вокзала, куда свозили руду. Все вокруг было красным. Невозможно было вывесить на балкон белье – снимаешь его уже красным. Даже воробьи были с красным оттенком», – вспоминает жительница города Сауле Куанышбек. Научные исследования подтверждают опасения. Работа казахстанских и российских ученых, опубликованная в 2025 году, показала, что в отвалах породы содержатся вредные химические соединения. Помимо относительно безопасных оксидов алюминия, железа и кремния, в отходах присутствуют примеси тяжелых металлов, ртути и мышьяка, концентрация которых значительно превышает санитарные нормы, представляя угрозу для здоровья людей и экологии.
Власти Аркалыка сообщают о частичной рекультивации карьеров, но большая их часть по-прежнему остается открытой. Заполненные дождевой водой, эти гигантские котлованы превратились в места для купания и источники воды для полива огородов, безопасность которой остается под большим вопросом. Официальных исследований о прямой связи между добычей бокситов и уровнем онкологических или респираторных заболеваний в городе не проводилось, но для многих жителей эта связь очевидна.
Аркалык – не единственный пример. В Карагандинской области находится Жезказган, построенный вокруг медных месторождений и комбината. Здесь, как и в Аркалыке, причиной упадка стало истощение запасов и монопрофильная экономика. С 1990-х годов объемы добычи руды неуклонно снижались, а около 20% трудоспособного населения зависело от одного работодателя – корпорации KAZ Minerals. Экологическая ситуация также остается тяжелой: воздух города классифицируется как «очень загрязненный» из-за диоксида серы, оксида углерода и других выбросов. «Не все хотят идти на тяжелое и вредное производство. Да, это может приносить хороший доход, но я видел, как это влияет на здоровье. Оно того не стоит», – делится местный житель Алибек Аскеров (имя изменено), чей отец потерял здоровье на шахте.
Еще один пример – город нефтяников Жанозен, ставший символом борьбы за социальную справедливость. Главные проблемы, волнующие его жителей, – безработица и страх перед будущим, когда нефть закончится. Построенный на базе месторождения, город уже не может обеспечить работой всех желающих, несмотря на реализуемые госпрограммы. Повторит ли Жанозен судьбу Аркалыка, покажет лишь время.
По данным Министерства национальной экономики, в Казахстане официально насчитывается 20 моногородов, хотя еще десять лет назад их было 27. Большинство из них (15 городов) зависят от добывающей промышленности. Опыт Жезказгана показывает, что некоторые из них могут сохранять жизнеспособность десятилетиями, но для других, как Аркалык, риск исчерпания ресурсов и закрытия предприятий вполне реален. Неожиданной надеждой для Аркалыка стал проект строительства трассы «Центр – Запад», которая свяжет Астану с Транскаспийским транспортным коридором. Новый маршрут сократит расстояние на 500 км и направит транспортный поток прямо через город, создавая потенциал для инвестиций.
Моногорода – это не просто историческое наследие, а проявление системной социально-экономической уязвимости. Это ставит перед обществом и властью сложные вопросы. Готовы ли мы отказаться от зависимости от «одного хозяина» и системно инвестировать в диверсификацию и экологическое восстановление таких городов? Сможем ли мы превратить инфраструктурные «подарки», подобные новой дороге, в устойчивые экономические возможности, а не временную поддержку? И кто в конечном счете несет ответственность за здоровье и качество жизни тех, кто десятилетиями трудился на вредных производствах? Готовых ответов на эти вопросы нет, но без их решения судьбы целых городов будут и дальше зависеть от случайных проектов и своевременности принятых мер.