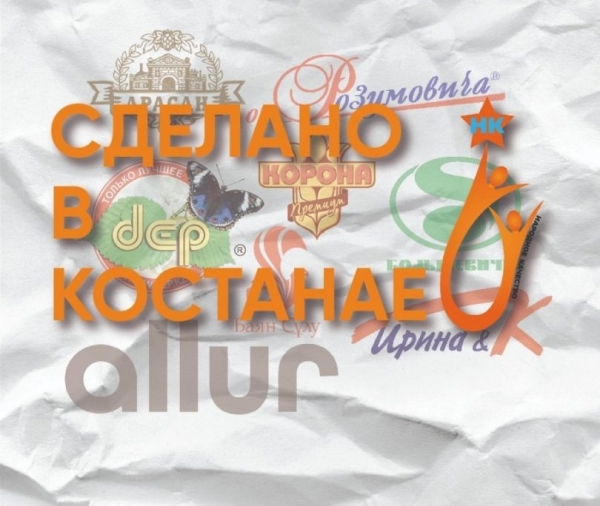В Казахстане вновь делают ставку на новый город – Алатау, в то время как история других мегапроектов служит молчаливым напоминанием о том, что любая большая стройка проходит проверку временем. На карте страны есть города – витрины успеха, и города – тихие символы угасших амбиций. Опыт показывает, что города могут рождаться почти с нуля, стремительно развиваться, а затем внезапно терять свое значение, оставляя после себя забытые села и разбитые надежды.
Казахстан уже проходил через опыт больших строек. Ярчайший пример – Астана, современный мегаполис и символ независимости. Другой, менее удачный эксперимент – пограничный Хоргос, который задумывался как центр торговли с Китаем, но столкнулся с коррупцией и стагнацией. По словам депутата Азата Перуашева, у инвесторов якобы вымогают деньги, а бизнес «питается» через таможенников, из-за чего до 80% свободной земли остаются незанятыми. Но самый поучительный пример – это города-«стратеги» советской эпохи, такие как Аркалык. Созданный как центр добычи бокситов, он рисковал остаться забытым, как только стратегическая задача утратила актуальность. Сегодня, глядя на стремительное развитие Алатау, возникает вопрос: не повторит ли он судьбу Аркалыка?
Аркалык, расположенный на юге Костанайской области, возник в 1956 году как поселок геологов. Советские власти видели в нем оазис посреди степи и опорный пункт для освоения целины, несмотря на предупреждения московской комиссии об отсутствии условий для жизни и суровом климате. В 1970–1988 годах город достиг пика своего развития, став центром Тургайской области. «Он был объявлен «комсомольской ударной стройкой». Насколько я знаю, такой статус в советское время мог носить какой-либо объект, но чтобы город – это была редкость», – говорит председатель территориальной избирательной комиссии Аркалыка Арыстан Айтмагамбетов. Однако в 1988 году область упразднили, и Аркалык потерял статус областного центра, превратившись в город, в состав которого вошли 18 сел на территории, сравнимой с Израилем.
Экономический кризис 90-х нанес сокрушительный удар. Градообразующее Тургайское бокситовое рудоуправление (ТБРУ) начало сокращать добычу, промышленность практически исчезла. Люди массово уезжали, население сократилось с 65 до 40 тысяч человек. Город погрузился в запустение: отключались свет, тепло и вода. Целые микрорайоны оказались заброшенными, а скелеты девятиэтажек, снесенные в 2010-х, оставили на теле города незаживающие шрамы. СМИ окрестили Аркалык «городом-призраком» и «казахстанской Припятью». «Я живу в городе всю жизнь, мне 63 года. Такой активной работы и застройки не видел с его расцвета в 70-80–х годов», – делится местный житель Ильяс Ахметжанов. Только сейчас, благодаря поручению Президента и включению в транспортный коридор «Центр–Запад», у города появилась надежда на возрождение. Реконструкция аэропорта и ремонт трассы Жезказган–Петропавловск должны оживить логистику, но полноценный промышленный прорыв пока не начат.
Судьба сел, присоединенных к Аркалыку, оказалась еще более тяжелой. Расположенные в десятках километров от города и друг от друга, они живут за счет городского бюджета, которого не всегда хватало и на сам Аркалык. Отсутствие работы выдавливает молодежь в областные центры и столицу. По данным Бюро нацстатистики, за год сельское население сократилось на 5%. В селе Фурманово, где когда-то был крупный элеватор, сейчас живут те, кто держит скот и надеется на возрождение Аркалыка. Село Восточное выглядит благополучнее за счет зерносеющих хозяйств, которые дают рабочие места. Но есть и села на грани исчезновения, как Мирное и Алуа, где проживает менее 50 человек. А село Кызылжулдыз в прошлом году и вовсе смыло паводком, его жителей переселили, а поселок упразднили.
На фоне этого опыта особенно пристальное внимание приковано к Алатау. В январе 2024 года сельское поселение Жетыген с населением 25 тысяч человек было преобразовано в город областного значения, к которому присоединили 12 сел и 36 дачных массивов. Этот проект, ранее известный как G4 City, обсуждался более 10 лет и сопровождался скандалами: с 2008 по 2015 год на него было выделено 31,4 миллиарда тенге, но город так и не появился. Теперь, с новой концепцией от сингапурской компании Surbana Jurong и расширением специальной экономической зоны Alatau, власти обещают создать экономический хаб с населением 2,2 млн человек к 2050 году. Проект получил господдержку, но большая надежда возлагается на иностранные инвестиции.
Однако для бывших сельчан, а ныне жителей Алатау, жизнь пока кардинально не изменилась, если не считать роста цен на продукты и услуги при прежних зарплатах. «Жетыген был довольно крупным селом. У нас 6 школ, более 10 детских садов… Больших изменений пока не видно, дороги обещали отремонтировать, поэтому ждем», – рассказывает местная жительница Анна Иванова. Обещанную больницу до сих пор не построили, а на плечи нового города лег груз инфраструктурных проблем присоединенных микрорайонов: где-то нет воды, где-то не хватает электроэнергии или дорог.
Экспертное сообщество разделилось. Кандидат исторических наук Асылбек Бисенбаев скептически замечает: «Инвесторы не идут в Конаев или Алматы, а почему-то в новый город их деньги должны хлынуть». Другие аналитики указывают на потенциальную нехватку водных ресурсов, которая может стать острой уже к 2030 году. Заместитель председателя Мажилиса Альберт Рау считает сравнение Алатау и Аркалыка некорректным из-за разной природы городов. Экономист Андрей Коваль подчеркивает, что успех зависит не от смены статуса, а от практических шагов. «Вопрос не в статусе, а в практических шагах реализации, в финансировании реальных проектов и перспективах для бизнеса и населения. В любом случае финансирование города из бюджета выше, чем населенных пунктов, а вот социальный и экономический эффекты предстоит воспроизвести», – считает он.
Таким образом, история Аркалыка и его сел служит суровым уроком для амбициозного Алатау. Присоединение сельских территорий – не гарантия их процветания, а дополнительная нагрузка на бюджет и инфраструктуру. Успех таких мегапроектов зависит не от громких заявлений и красивых макетов, а от долгосрочного планирования, жизнеспособной экономики и реальной поддержки людей, чьи судьбы оказываются вплетены в полотно больших государственных строек.